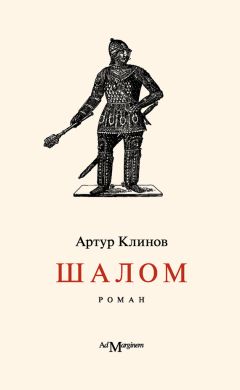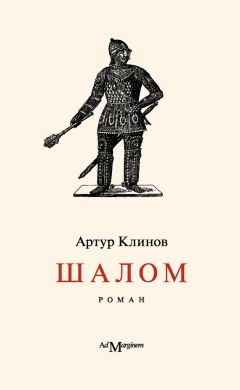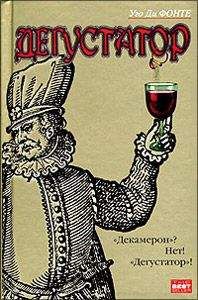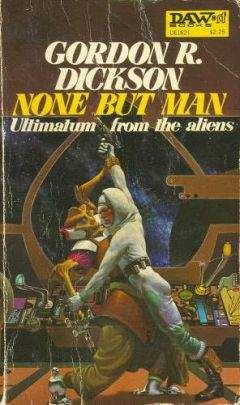Александр О`Шеннон - Антибард: московский роман
Жила она в спальном районе с матерью, утонченной акварелисткой, рисующей милые туманные пейзажи в стиле позднего Нагасавы Росэцу, и младшей сестрой, единственным здравомыслящим человеком из всей семьи.
Мать ее, носящая буколическое имя Изабелла Юрьевна, с утра до вечера бродила по квартире, волоча за собой ниспадающую богемную шаль, и молола кофе в ручной кофемолке. Среди предков Изабеллы Юрьевны числилась какая-то армянская царевна, женщина, судя по самой Изабелле Юрьевне, горячая и своенравная, в результате чего их споры с Аллой — относительно, скажем, степени густоты акварельной краски, наносимой на черную тушь, — из области чисто эстетической довольно быстро перетекали в язвительное обсуждение личностных качеств обеих дам и их мужчин, как правило, отъявленных мерзавцев. Кроме того, в квартире жил кот, уже старый, но размерами напоминающий котенка — зашуганное и облезлое существо с голым, как у павиана, задом, — спятивший от постоянного недоедания и желания трахаться. Кот этот, мстя за свою поганую жизнь, обоссал все, что только мог, от обуви до подушек и столовых приборов, не добравшись до открытых ртов спящих только по той причине, что на ночь его предусмотрительно запирали в коридоре. В результате этого в доме всегда стояло такое амбре, что в гости приглашались только проверенные, не склонные к аллергическим припадкам люди. Это был настоящий сумасшедший дом, и время от времени он становился и моим домом.
Отец Аллы, живший отдельно, был русским художником, канонически запойным и бородатым. Алла любила его больше всех родных, потому что они были похожи внешне и близки по духу, хотя большая борода, этот непременный атрибут всякого российского интеллектуала и маргинала, придавала его облику некоторую основательность. Он жил один в маленькой квартирке прямо у метро «Каширская», и однажды мы зашли к нему. Мне запомнилась огромная картина, висящая над его смятой койкой, на которой был изображен Владимир Семенович Высоцкий. Он рвался из цепей, крича: «Пр-р-ропустите меня к этому человеку!» — и на могучей шее Барда вздувались знаменитые вены. Разговор наш был тягостен и невнятен и касался главным образом разворовывания России и оскудения православия. Две эти темы, сквозь которые красной нитью проходило тяжелое похмелье, послужили для меня достаточным основанием не злоупотреблять нашим знакомством. А вскоре была поставлена жирная точка и в наших отношениях с Аллой…
Произошло это на Ярославском шоссе, где она танцевала среди несущихся машин с белым от очередного алкогольного отравления лицом, высоко задирая ноги. Нужно отдать мне должное — сам с трудом сохраняя равновесие, я стоял на обочине и пытался ее урезонить. В итоге машины, каким-то чудом не столкнувшись, остановились и из них стали выскакивать разъяренные водители. Один из них утихомирил визжащую Аллу ударом в ухо, а другие, с каким-то железом в руках, потрусили ко мне. И тогда я совершил, наверное, единственный разумный поступок за все время нашего знакомства — я пустился бежать как ветер, оставив в стельку пьяную деву в руках шоферов. Только на следующее утро я с потрясшей меня ясностью понял, насколько бесчеловечных побоев мне удалось избежать. Я позвонил Алле, как всегда искренне ничего не помнящей, и голосом, дрожащим от переполнявшей меня радости, объявил, что между нами все кончено. Потом я узнал, что ей тоже повезло — она отделалась легким сотрясением мозга. Впрочем, в этом смысле ей всегда везло…
Она позвонила через год, застав меня в угнетенном состоянии духа на диване. Мне тогда как-то особенно опротивели все окружающие, а больше всех родители, вид которых и их бесконечные передвижения по квартире вызывали во мне раздражение, с каждым днем перерастающее в стойкое отвращение. Целыми днями я лежал на диване в тапках, курил и думал, куда бы мне деться. Денег, чтобы снять квартиру, у меня не было.
Я даже обрадовался, услышав ее голос, и не сразу понял, что отец ее умер и квартира досталась ей. Это была ее давняя мечта, и, выразив соболезнования, я тут же от души ее поздравил. В дальнейшем разговоре она поведала мне об обстоятельствах своей жизни, и, слушая ее, я мысленно возносил хвалу Господу за то, что он надоумил меня в свое время пуститься наутек.
Возраст не умалил ее бойцовских качеств, и это роковым образом сказалось на ее существовании. Некоторое время многочисленные любовники пристраивали ее на теплые места, где не требовалось изнурять себя работой во имя процветания фирмы и к тому же неплохо платили. Во всех офисах она держалась до первого официального торжества с фуршетом и возлияниями, спокойно работая то менеджером, то секретаршей, и наливалась ядом. В коллегах ее бесило буквально все: костюмы и галстуки, дурацкие, по ее мнению, разговоры о клиентах, заказчиках, партнерах и прочем, само слово «команда», употребляемое со скромной гордостью, и — по достижении определенного статуса — всенепременное завсегдатайство в каком-нибудь суши-баре, клубе с фитнес-залом или заведении с чайными церемониями. Дочь своего отца, она любила не безумную Москву, но Русь с ее широкими полями и дремучими лесами, полными ягод и грибов, с убогими деревеньками вдоль дорог и разливающимся окрест всего этого благолепия колокольным звоном. В старину она молилась бы двоеперстно, прикармливала бы в своем тереме убогих, прятала бы в баньке страдников и попов-расстриг, стояла бы за устои, и в конце концов какой-нибудь упрямый фанатик вроде патриарха Никона упек бы ее в монастырь, где она, несломленная, умерла бы на соломе при родах, а внучка ее стала бы женой декабриста. Но наш век, век неофитов и буйства демократии, что в кубическом российском исчислении соответствует повальному распиздяйству, не дал ей испить чашу идейного мученичества.
На первом же фуршете, среди светящихся лиц сотрудников, между здравицами в честь руководства и взрывами алчного смеха, вызванного намеками на ожидаемые прибыли, вставала в жопу пьяная Алла и начинала свой спич словами: «Вот смотрю я на вас, уроды…» Далее следовало перечисление всего того негативного, чего много есть в менеджерах, секретаршах и генеральных директорах, добывающих хлеб насущный на просторах посткоммунистической России, но о чем говорить нет нужды, ибо и так все всё знают. Алла же, со свойственной ей страстью, говорила до тех пор, пока багровые от возмущения сослуживцы не пытались вывести ее прочь. В этот момент она наносила свой знаменитый прямой удар в челюсть, и начиналась тотальная свалка. Растрепанные женщины возмущенно кричали: «Распоясавшаяся хулиганка!» — а вскочившие мужчины, перемазанные салатами и облитые вином, изо всех сил старались вытолкать ее за дверь. Билась Алла как армянская царевна, которую свора янычар волокла в гарем турецкого султана. После этого, естественно, от ее услуг отказывались.
Между тем людей, стремившихся помочь ей с работой, становилось все меньше и меньше, главным образом потому, что она с трогательным постоянством рассказывала всем друзьям и знакомым о своих бранных подвигах, ожидая дружеского участия… Пока был жив отец, он время от времени подкидывал ей работенку в издательствах, связанную с оформлением открыток и детских книг, но с его смертью иссяк и этот источник дохода. Наконец она убедила какого-то славного и очень молодого человека, без памяти в нее влюбившегося, найти ей работу, обещав при этом и ему и себе соблюдать принятые нормы приличия. Но за день до формального собеседования случилось то, что я, со свойственной мне возвышенностью, назвал бы промыслом Неба, а Алла не иначе как гадством.
В ночном клубе, куда они на радостях заглянули со своим молодым другом, Алла честно пила только пиво. Оставив юношу в бильярдной, она пошла пописать. И там, в предбаннике туалета, ее ждала пренеприятнейшая встреча с одним из бывших коллег, с которым в свое время у нее произошла особенно безобразная сцена. То, что она назвала его при этом педиком писюнявым, ему было по барабану, но она выплеснула на его новый, трепетно купленный в самом настоящем бутике, а не на каком-нибудь засявканном вьетнамском рынке, пиджак за четыреста у.е. целую плошку кетчупа, сделав его пригодным разве что для походов в ближайший пункт приема стеклотары. Столкнувшись нос к носу, оба на мгновение оцепенели и скорее всего так и разошлись бы, не пообщавшись, но Алла сделала то, чего в подобных обстоятельствах делать никак не следовало, — она открыла рот. Меня она потом уверяла, что хотела только ласково с ним заговорить и даже извиниться за давешнее, как бы знаменуя этим начало новой жизни. Однако менеджер, сам до краев накачанный текилой, решил, что сейчас услышит ее дикий визг, которым она славилась не менее, чем своим хуком; воспоминания об испорченном костюме воспламенили его кровь, и он со всей силы дал ей в глаз. Алла молча съехала на пол, а менеджер, испугавшись содеянного, быстро покинул клуб.